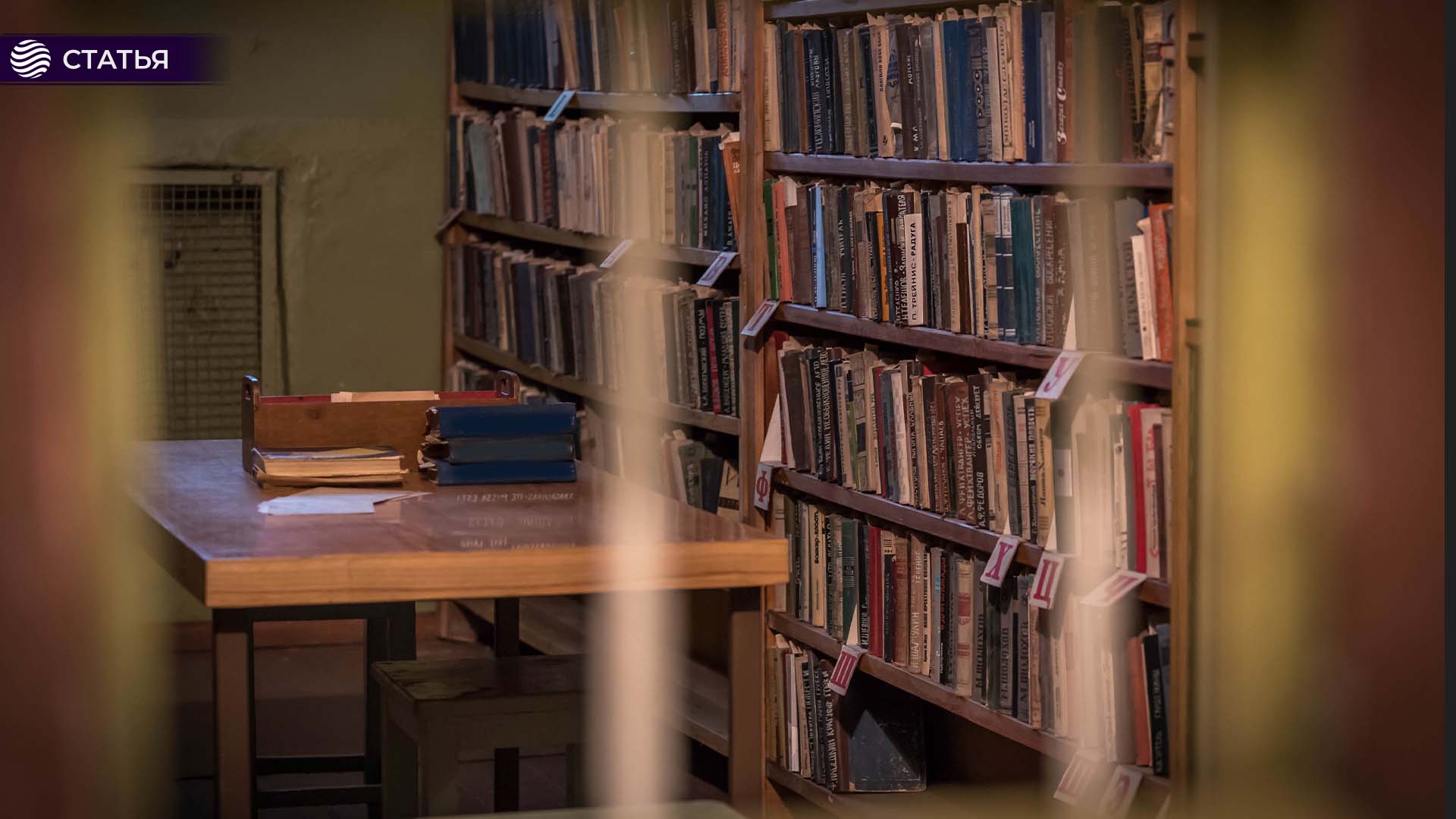
Тюремная библиотека и идеологические решётки
В Узбекистане принят новый закон, согласно которому осужденные могут сократить срок тюремного заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного государством списка. Максимальная «льгота» составляет 30 дней в год. Закон представляется как шаг в сторону гуманизации уголовно-исполнительной системы и духовно-нравственного воспитания заключенных. Однако за внешним гуманизмом скрываются глубокие противоречия, указывающие на выборочную и идеологизированную природу государственной политики в сфере просвещения и морали.
Книги, за чтение которых предоставляется сокращение срока, отбираются Республиканским центром духовности и просветительства. Это означает, что литература должна соответствовать официальной линии, формировать «правильные» нравственные ценности, как их понимают в государственном аппарате. На практике это исключает произведения, содержащие идеи, не совпадающие с текущей политической или идеологической установкой власти. Таким образом, государство берёт на себя роль морального фильтра, решая, что заключённые (а по сути, и общество в целом) должны читать и воспринимать как духовное руководство.
Контраст возникает при сравнении этой инициативы с другой гранью правоприменительной практики — уголовным преследованием за чтение или распространение религиозной литературы, особенно исламского характера. В Узбекистане действуют жёсткие законы, по которым люди могут быть лишены свободы за обладание книгами, трактуемыми как экстремистские. Причём зачастую речь идёт не о признанных опасными текстах, а о популярных религиозных сочинениях, которые не несут угрозы общественной безопасности, но не прошли государственную экспертизу или не соответствуют официальной, утвержденной властями, версии ислама.
Таким образом, чтение в стране становится не способом саморазвития или духовного поиска, а инструментом контроля. Одни книги — путь к сокращению наказания, другие — путь к аресту и новым срокам. Под лозунгами духовности и воспитания реализуется политика фильтрации идей, где государство предлагает модель «разрешённой нравственности». Такая модель подрывает саму суть морального выбора и внутреннего духовного роста, заменяя их навязанной внешней идеологией.
Особую тревогу вызывает то, что за рамками этой инициативы остаются категории заключённых, осуждённых за идеологические преступления, в том числе за религиозные убеждения. Закон не распространяется на тех, кто приговорён к пожизненному заключению, хотя именно в этой группе немало тех, кто стал жертвой избирательного правосудия за свои взгляды. Это подчеркивает, что гуманизация применяется не ко всем, а лишь к тем, кто готов вписаться в предложенные властями идеологические рамки.
Закон о сокращении срока заключения за чтение книг — это не просто уголовно-правовая инициатива. Это часть более широкой политики государства, направленной на формирование подконтрольного сознания. В условиях, когда правильные мысли ограничены и доступ к альтернативным источникам знания подавляется, такая мера превращается в механизм поощрения лояльности, а не в путь к истинному духовному развитию. Поэтому говорить о формировании нравственности можно лишь в том случае, если под этим понимать не свободу личного морального выбора, а следование государственной линии.
Худжад Джамиа






